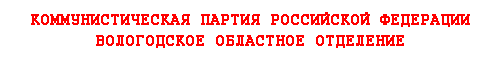2010-03-05 15:33
Сергей Васильцов, доктор исторических наук, директор Центра исследований политической культуры
«За чьи грехи платить русским?», «Русский вопрос и парад шовинизмов», «Зарождение имперской доминанты», - эти и другие проблемы рассматриваются в опубликованной в «Правде» в годовщину смерти И.В.Сталина статьи доктора исторических наук, директора Центра исследований политической культуры России С.И.Васильцова.

Я не европеец, а обрусевший грузин-азиат»,— сказал как-то Иосиф Виссарионович Сталин в шутливом застольном споре с вождём болгарских коммунистов Георгием Димитровым. Подобная его самоаттестация могла бы, наверное, стать ключом, обещающим вскрыть «код» личности Сталина, если бы не веские уточнения тех, кто соприкасался с ним в разнообразных жизненных обстоятельствах: скажем, Главного маршала авиации А.Е. Голованова — одного из очень немногих людей, к которым Сталин, бывало, обращался по имени и на «ты». С солдатской прямотой и не менее образно маршал утверждал: «Восточное происхождение сказывалось у него только в акценте и гостеприимстве».
Ошибочными, а то и осознанной ложью выглядят утверждения, будто бы сталинское отношение ко всему русскому носило вынужденный характер и было продиктовано той ситуацией «быть или не быть», в которой оказался Советский строй в условиях фашистского нашествия.
Не последнюю роль в формировании взглядов Сталина играл сам процесс складывания его личности политика и борца. Он вспоминал, что в революционное движение вступил с 15-летнего возраста, когда связался с подпольными группами русских марксистов, проживавших тогда в Закавказье. По словам Сталина, эти группы имели на него большое влияние.
Однако, чтобы понять «русскую составляющую» сталинской натуры, этого, конечно же, мало, даже если брать в расчёт лишь Сталина-политика. Его взгляды на русских опирались на мощный мировоззренческий фундамент и непрерывно развивались. Они теснейшим образом были увязаны не только с его марксистско-ленинским мировоззрением, но и с душевными порывами, выступали и как элемент идеологии, и в качестве важнейшего инструмента практической государственной деятельности.
За чьи грехи платить русским?
Уместно вспомнить, что проблема взаимоотношений большевиков с русским народом изначально носила далеко не простой характер. Сказывалось здесь, в частности, и то, что русские представляли собой государствообразующую нацию империи. Так что политическая партия, ставившая своей целью свержение монархии, не могла не оказаться перед труднейшей проблемой выстраивания своих отношений с народом, являющимся базисом уничтожаемого государственного строя. Лобовой глобальный конфликт здесь носил бы для неё просто самоубийственный характер.
Быстрое же привлечение всей русской нации на сторону революционеров было, в свою очередь, вряд ли возможно. Хотя бы в силу исторически сложившихся царистских настроений её решающей массы. Определённым выходом из положения была, с одной стороны, ставка на наиболее подготовленную к революционным преобразованиям часть русского этноса — городской, главным образом промышленный, пролетариат и беднейшие слои крестьянства при нейтрализации середняка. А с другой — весьма привлекательно выглядела идея опереться на нерусское население страны, наиболее тяготившееся существовавшим порядком вещей и составлявшее к тому же более половины жителей царской России.
Отсюда во многом и проистекало отстаивание принципа права наций на самоопределение.
Однако приход РКП(б) к власти и превращение её в правящую партию не могли не поставить её лицом к лицу с задачами, во многом противоречившими тем, что диктовали поведение большевиков до октября 1917 года. Низвержение старого общества свершилось, и на повестку дня вставал сложнейший созидательный момент — создание и защита нового общества. А это по-другому ставило вопрос о взаимоотношениях новой власти со старым и единственно возможным государствообразующим народом — всё теми же русскими. Тем более что в новом государстве после отпадения от него Польши и Финляндии русские составили большинство.
Отсюда сталинское убеждение, что «правильное в одной исторической обстановке может оказаться неправильным в другой исторической обстановке». Довольно быстро выяснилось, что проблемы национальных отношений и русский вопрос данное соображение затрагивает, быть может, в наибольшей мере. Хотя бы в связи с задачей «принять все меры к тому, чтобы... — по словам Сталина,— Советская власть была у нас не только русской, но и междунациональной». Но какие меры?
Широкое хождение в «верхах», например, получила идея Н.И. Бухарина, который как бы от имени всего русского народа утверждал: «Мы в качестве бывшей великодержавной нации должны... поставить себя в неравное положение в смысле еще больших уступок национальным течениям... Только при такой политике, когда мы себя искусственно поставим в положение, более низкое по сравнению с другими, только этой ценой мы сможем купить себе настоящее доверие прежде угнетенных наций». И предлагал не обращать внимания на шовинизм иного рода. «Если бы мы стали… разбирать вопрос о местных шовинизмах,— говорил он, «вкрадчиво» споря со Сталиным на XII съезде РКП(б) в апреле 1923 года,— мы бы вели неправильную политику».
Хотя ни с точки зрения марксизма, ни с позиций элементарной логики подобная купля-продажа русских интересов не могла быть оправдана. То, что русский народ, только что освободивший как себя, так и другие народы России, заставляли платить по счетам угнетателей, выглядело прямым издевательством как над буквой, так и над духом марксизма. Попиралась здесь и элементарная правда истории.
Во-первых, никаких русских помещиков вне пределов населённых русскими земель в царской России как сколь-либо массового явления просто не было. И на Кавказе, и в Закавказье, и в Средней Азии, и в Прибалтике, и в Польше, и в Финляндии, а также на большей части Украины и Белоруссии класс землевладельцев формировался исключительно из представителей «верхов» местных этнических групп. А если и не местных, то всё равно не русских. Скажем, на Украине и в Белоруссии речь могла идти о польских по происхождению земельных магнатах, в Прибалтике — о немецких баронах, в Финляндии — о прослойке шведской аристократии и т.д.
Во-вторых, слой фабрикантов в массе своей также не имел к русским абсолютного отношения. Во многом это были иностранные (французские, бельгийские, английские, германские) предприниматели. То же самое можно сказать и о банковском капитале, обслуживавшем в основном иностранные же займы.
В-третьих, у власти в стране стоял никак не русский по происхождению род Романовых. Если строго следовать правилам генеологии, это была Гольштейн-Готторпская династия, лишь номинально (со времён Петра III) пользовавшаяся фамилией Романовых, преемственность с которой ею была полностью потеряна. А ведь именно эта династия была и крупнейшим землевладельцем страны.
Можно добавить ещё и то, что придворные круги также были многонациональными. Причём особо влиятельные позиции в них занимали опять-таки носители немецких фамилий. Да и среди владельцев исконно русской земли, жалованной им со времён чуть ли не Ивана Грозного, иноземцев по происхождению — от германского до грузинского — хватало с лихвой. Где тут великодержавная нация?
Что в итоге получалось? Взять хотя бы знаменитые события 1912 года на Ленских золотых приисках — пролог Октябрьской революции. Напомним: английский финансовый концерн «Лена-Голдфилдс» сумел только за 1906—1910 годы выжать здесь из русских рабочих увеличение собственных доходов в 22 раза, чем и вызвал вспышку протеста, забастовку и стачку, которые кроваво подавила власть. И вот, согласно предложению Бухарина, получалось, что эти ограбленные иностранным капиталом и расстрелянные интернациональным царизмом русские рабочие обязаны после революции заново и добровольно опустить себя в ущемлённое положение — платить по классовым счетам своих палачей. Трудно представить что-то более бредовое и чудовищное, а также крайне опасное: недаром же Троцкий пророчил в то время лобовое столкновение Советской власти и крестьянства, то есть подавляющего большинства русской нации.
В общем, ни о какой ответственности русских за дела воистину интернационального сообщества угнетателей речи идти не могло. Но... шла.
Идея эта играла роль чего-то вроде «хорошего тона» в идеологической сфере. И только Сталин нашёл в себе силы публично и открыто выступить против подобных планов решения национального вопроса, пойти против течения. «Говорят нам, что нельзя обижать националов. Это совершенно правильно, я согласен с этим, — не надо их обижать, — рубанул он сплеча на ХII съезде РКП(б). — Но создавать из этого новую теорию о том, что надо поставить великорусский пролетариат в положение неравноправного в отношении бывших угнетенных наций, — это значит сказать несообразность».
Русский вопрос и парад шовинизмов
Вместе с тем Сталина не могла не волновать, как и всё руководство ВКП(б), вполне реальная возможность вспышки националистических настроений в среде русских людей, чья жизнь, пожалуй, в наибольшей мере переменилась в первые годы после Октября и продолжала резко меняться. «...В связи с нэпом во внутренней нашей жизни, — предупреждал он, — нарождается новая сила — великорусский шовинизм».
Отталкиваясь от этой констатации, Сталин первоначально, как и многие в партийном руководстве, склонялся к выводу о том, что национализм, а точнее — его пережитки в советском обществе, является всего лишь своеобразной формой «обороны» нерусского населения от великорусского шовинизма. И потому проблема может решиться на диво просто: «...Решительная борьба с великорусским шовинизмом представляет вернейшее средство для преодоления националистических пережитков».
Однако реальная жизнь быстро показала, что очаги шовинизмов — от мини- до микродержавных — стали вспыхивать практически повсеместно, и даже там, где русского населения почти не было.
И Сталину приходилось существенно корректировать свою позицию. «Нэп взращивает не только шовинизм великорусский, — признавал Иосиф Виссарионович, — он взращивает и шовинизм местный, особенно в тех республиках, которые имеют несколько национальностей». И указывал, в частности, на пример своей родной Грузии, где партийное руководство не очень-то считается с «мелкими национальностями» вроде армян, абхазцев, аджарцев, осетин, татар, составляющих более 30% населения. В общем, шовинизмы на послеоктябрьском пространстве возникали, как матрёшки, внезапно и почти до бесконечности. Так что сводить проблему к «русскому фактору» было опять-таки нереально.
Позиции партии по национальному вопросу явно нуждались в коррекции. И тут поиски Сталина носили подчас очень непростой характер. «Когда говорят, что нужно поставить во главу угла по национальному вопросу борьбу с великорусским шовинизмом, этим хотят отметить обязанности русского коммуниста, этим хотят сказать, что обязанность русского коммуниста самому вести борьбу с русским шовинизмом, — рассуждал он. — Если бы не русские, а туркестанские или грузинские коммунисты взялись за борьбу с русским шовинизмом, то их такую борьбу расценили бы как антирусский шовинизм... Русские коммунисты не могут бороться с татарским, грузинским, башкирским шовинизмом, потому что... эта борьба... будет расценена как борьба великорусского шовиниста против татар или грузин... Без этого никакого интернационализма ни в государственном, ни в партийном строительстве не получится... В противном случае может получиться поощрение местного шовинизма, политика премии за местный шовинизм». Борьба с национализмом как национальная самокритика? Красиво. Однако, как оказалось, не жизненно. События шли другим путём.
Списывать местный национализм как некую своеобразную форму обороны против великодержавного шовинизма делалось всё труднее. Мало того, внимательный сталинский взгляд фиксировал уже и такое новое явление, как «националистическая контрреволюция»,— явление, направленное и против власти Советов, и против ставшего неотделимым от неё русского народа как уже советского государствообразующего этноса.
Взяв пример Украины, он ещё в 1926 году указывал на опасность превращения очень нужного движения за подъём украинской культуры в движение «против «Москвы» вообще, против русских вообще, против русской культуры и её высшего достижения — ленинизма».
Русофобия и антисоветчина сливались в единое антигосударственное явление. Именно здесь Сталин первым вскрыл классовые и идейно-политические корни извечных попыток протащить под флагом приоритета межнациональных отношений и интернациональной дружбы самую агрессивную русофобию. «И это называется интернационализмом!» — с горечью резюмировал он ситуацию на Украине…
«Между тем положение в сфере межнациональных отношений продолжало сгущаться настолько, что в ряде регионов вставал вопрос о защите русских от подлинных актов геноцида. Особенно остро дела складывались на Кавказе. «...Вследствие того, что некоторые группы казаков оказались вероломными, — разъяснял он на Съезде народов Терской области ещё в ноябре 1920 года, — пришлось принять против них суровые меры, пришлось выселить провинившиеся станицы и заселить их чеченцами. Горцы поняли это так, что теперь можно терских казаков безнаказанно обижать, можно их грабить, отнимать скот, бесчестить женщин. Я заявляю, что если горцы думают так, они глубоко заблуждаются... если горцы не прекратят бесчинств, Советская власть покарает их со всей строгостью революционной власти».
Не правда ли, это сталинское выступление, которое никогда и нигде не цитировалось, во многом по-другому, чем ныне принято, освещает вопрос, кто, кого, когда и как выселял на Кавказе. А также показывает, что сталинские меры, принятые спустя четверть века, отнюдь не носили какого-то импульсивного характера и честно предварялись самыми серьёзными предупреждениями...
Небезобидные «агитки бедного Демьяна»
Впрочем, атака на всё русское разворачивалась не только в горах Кавказа или на просторах Украины. Она шла из столицы, носила всеобщий характер, выдавалась за нечто особенно «революционное» и «левое». И тут Сталина порою хватало только на то, чтобы с присущей ему едкой иронией, что называется, огрызнуться. «Снять колокола — подумаешь, какая революционность», — срывался он.
Но зачастую его реакция приобретала и куда более серьёзный характер, выходя на уровень теории, определяющей конкретную политическую практику партии. «Есть люди, думающие, что ленинцы обязаны поддерживать каждого левого крикуна и неврастеника... Это неверно, товарищи».
Причём левачество в русском вопросе, похоже, возмущало Иосифа Виссарионовича особенно сильно. Показательна в этом плане его острая полемика с популярным в те годы поэтом Демьяном Бедным. Тут Сталин, наверное, впервые публично ставит ряд очень важных точек над «i», разбирая сатирические экзерсисы литератора. Он прямо обвиняет его, а в его лице и тех, в угоду кому старался поэт, в том, что тот стал «возглашать на весь мир, что Россия в прошлом представляла сосуд мерзости и запустения, что нынешняя Россия представляет сплошную «Перерву», что «лень» и стремление «сидеть на печке» является чуть ли не национальной чертой русских вообще, а значит и — русских рабочих... это не большевистская критика, — ставил вопрос ребром Сталин в 1930 году, — а клевета на наш народ, развенчание СССР, развенчание пролетариата СССР, развенчание русского пролетариата». А ведь таких «бедных Демьянов», как поддразнивал поэта Сергей Есенин, в то время было много…
Быть может, впервые в идеологической практике большевистского руководства партия в лице Сталина вставала в защиту прошлого России, прошлого русского народа, защищая их от злобного очернительства. Россия былая и Россия советская брались как единое целое. Сталин решался на заявление, носившее уже программный характер: русские рабочие, совершившие Октябрьскую революцию, «конечно, не перестали быть русскими». Это был прямой вызов троцкистско-бухаринским кругам. Что и понятно.
Вдумаемся. Времена для СССР были крайне трудные: белая эмиграция при полной поддержке буржуазных СМИ на Западе наперебой твердила, будто приход большевиков к власти был не чем иным, как результатом всеобщего обмана и насилия, помутнения народного разума, чем-то противоестественным и недолговечным. А тут разного рода партийные идеологи и близкие к ВКП(б) «люди пера» рисуют русского человека, сделавшего эту самую революцию, безнадёжным лентяем и дураком, что лило воду на мельницу врагов Советской власти. Революция, совершённая народом-недоумком? Подобный образ буквально крест-накрест перечёркивал Октябрь, а с ним и легитимность советского строя.
Зарождение имперской доминанты
К тому же уже к концу 20-х годов многое в стране принципиально изменилось. Прежний курс на немедленную либо очень скорую мировую революцию делал ненужным наличие в стране государствообразующего народа — как русского, так и любого другого. Ибо в качестве опоры и движущей силы нового общества троцкистскими и околотроцкистскими кругами рассматривались не внутренние, национальные, а внешние, интернациональные, силы — революция на Западе и помощь пролетариата передовых капиталистических стран.
Теперь же вопрос о государствообразующей силе Советской страны вставал во весь рост. Необходимым делался пересмотр либо очень серьёзная корректировка многих ключевых представлений, включая те, что возводили стену между Советской Россией и Россией прежней, исторической, насчитывающей тысячелетия истории. Требовалось ликвидировать трещину в общецивилизационных основах державы. Компромиссных ссылок на «чувства революционной национальной гордости, способной двигать горами», было уже недостаточно.
Интересы Советской державы подталкивали к более решительным идеологическим шагам. «...Молодёжь может и не помнить, да молодёжи, пожалуй, и не обязательно помнить... как мы, старые большевики... называли старую, царскую Россию тюрьмой народов»,— отмечал Сталин, «покушаясь» тем самым на один из самых видных постулатов революционной пропаганды, клеймивших имперскую действительность.
«Реабилитировалась» сама русская цивилизация, вплоть до её исторической государ-ственности. Сталин раз за разом делает здесь аккуратные, но твёрдые шаги. «Русские цари сделали много плохого... — заявил он на обеде у К. Ворошилова 7 ноября 1937 года. — Но они сделали одно хорошее дело — сколотили огромное государство — до Камчатки. Мы получили в наследство это государство... Поэтому каждый, кто пытается разрушить это единство социалистического государства, кто стремится к отделению от него отдельной части и национальности, он враг, заклятый враг государства народов СССР. И мы будем уничтожать каждого такого врага...»
Большевики и Советская власть — наследники царской России? Сколь смело звучало тогда подобное заявление, сегодня нам трудно почувствовать и осознать. А ведь Сталин шёл дальше, переосмысливая многие другие «константы» партийной идеологии той поры. «Кроме права народов на самоопределение, есть еще право рабочего класса на укрепление своей власти, и этому последнему праву подчинено право на самоопределение. Бывают случаи, когда право на самоопределение вступает в противоречие с другим, высшим правом, — правом рабочего класса, пришедшего к власти, на укрепление своей власти...»
Таким образом, историческое государство Российское — и дооктябрьское, и советское — восстанавливало свои целостность и единство, которые, по мысли Сталина, требовалось самоотверженно защищать. Советская эпоха переставала быть этакими «скобками» в русской, российской истории. Наоборот, она чётко вписывалась в качестве органичной части в контекст всей русской цивилизации вообще и её государственных институциональных форм в частности.
Сталин шаг за шагом создавал новую идеологическую базу. «Решение национального вопроса возможно лишь в связи с историческими условиями, взятыми в их развитии»,— утверждал он, обосновывая мысль о том, что Октябрь и социалистическое строительство не как-нибудь, а в корне переменили такого рода условия. А с ними — многие теоретические основы.
Речь начинала идти не только о классовом и политическом аспектах русского вопроса, но и о таких вещах, как особенности духовного склада и психологии русских и других национальных сообществ. «Конечно, сам по себе психический склад, или — как его называют иначе — «национальный характер», является для наблюдателя чем-то неуловимым, но поскольку он выражается в своеобразии культуры, общей нации, — он уловим и не может быть игнорирован», — доказывал Сталин в работе «Марксизм и национальный вопрос». И тем самым принципиально расширял рамки марксистского анализа действительности, вводя в оборот проблемы, ранее занимавшие в нём второстепенное значение. По существу, он ставит перед коммунистическим движением новые задачи. А именно: «...коммунистические партии должны найти национальный язык и бороться в условиях своей страны»,— отмечал он на встрече с членами югославской делегации в июне 1944 года.
Битва за умы
Впрочем, проблема языка — не только политического, но и живого русского — начинает в 30-е годы занимать Сталина с особой силой. Здесь тоже далеко не всё было в порядке. Очевидны были попытки атаковать русских именно с позиций их родного языка. Ещё с первых послеоктябрьских лет в некоторых кругах партийной интеллигенции прослеживалась линия на то, чтобы если и не убрать, то существенно потеснить русский язык: заменить его на эсперанто или, на худой конец, отказаться от русского алфавита и ввести латинский. Обоснования черпали всё из того же источника — из разглагольствований насчёт «эксплуататорского прошлого» (а то и настоящего?) русского народа и упрощенного взгляда на мировую революцию.
Конечно, подобные наскоки можно было рассматривать с чисто комической стороны. Сталин это любил. «Новаторов» в области русского языка он сравнивал с теми «марксистами», которые «утверждали, что железные дороги, оставшиеся в нашей стране после Октябрьского переворота, являются буржуазными, что не пристало нам, марксистам, пользоваться ими, что нужно их срыть и построить новые, «пролетарские» дороги,— откровенно потешался он в своём труде «Марксизм и вопросы языкознания», увидевшем свет в 1950 году. — Они получили за это прозвище «троглодитов»...» Однако не на всё можно было отзываться смехом.
Казалось бы, вопрос был давно закрыт: ещё в январе 1930 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление, которое, в частности, гласило: «Предложить Главнауке прекратить разработку вопроса о латинизации русского алфавита». Ан нет. Муссирование данной темы, в том числе под видом этакого «интеллектуального тренинга», продолжалось. Сталину приходилось заново отбивать атаки тех, кто требовал введения в СССР некоего «классового» языка. При этом он подчёркивал, что подобный «примитивно-анархиче-ский взгляд на общество, классы, язык» способен лишь на одно — внести анархию в общественную жизнь и создать угрозу распада общества.
Впрочем, проблема уже не исчерпывалась судьбами русского языка. В условиях послевоенного оживления в стране силы, с которыми боролся Сталин, перешли в наступление.
На этот раз — в области культуры и массового сознания. Противостояние идей зачастую как бы вплеталось тут в ткань чрезвычайно трудной и вместе с тем героической жизни людей, возрождавших из руин страну — страну, которая, несмотря на эти руины, уже встала в ряд мировых сверхдержав. Тихой сапой прокладывала себе путь примерно та же политика разложения изнутри, что прорвалась спустя 40 лет на поверхность нашей жизни под именем «перестройки».
Яркий образ происходившего дал писатель А.А. Фадеев на встрече творческой интеллигенции со Сталиным в 1946 году. «Сегодня приходишь в один кинотеатр — стреляют, приходишь в другой — стреляют: повсюду идут кинофильмы, в которых герои без конца борются с врагами, где рекой льётся человеческая кровь. Везде показывают одни недостатки и трудности. Народ устал от борьбы и крови», — как бы суммирует он то, что хлещет и с нынешних телеэкранов. И требует позитивной программы воздействия на умы: «Мы хотим попросить вашего совета — как показывать в наших произведениях другую жизнь: жизнь будущего, в которой не будет крови и насилия, где не будет тех неимоверных трудностей, которые сегодня переживает наша страна».
И позиция писателя нашла отклик со стороны Сталина. Отклик, за которым нетрудно разглядеть солидный «багаж» уже накопленных по данному поводу размышлений и выводов: «Всё чаще на страницах советских литературных журналов появляются произведения, в которых советские люди — строители коммунизма изображаются в жалкой, карикатурной форме. Высмеивается положительный герой, пропагандируется низкопоклонство перед иностранщиной, восхваляется космополитизм, присущий политическим отбросам общества... В кинофильмах появилось мелкотемье, искажение героической истории русского народа».
Сталин вновь, как то случалось и раньше, выявил здесь двойную цель очередной волны агрессивного западничества — удар как по системе ценностей социалистического общества, так и по образу русского народа, являющегося главным носителем и творцом этих ценностей.
Он ощутил момент, когда таранные атаки на советскую государственность сменились на опосредованные и скрытые попытки исподтишка воздействовать на умы, на то, что в наше время называется нейролингвистиче-ским программированием. «Есть классовая подоплёка и у так называемой западной популярной музыки, так называемого формалистического направления, — размышлял он. — Такого рода, с позволения сказать, музыка создается на ритмах, заимствованных у сект «трясунов», «танцы» которых, доводя людей до экстаза, превращают их в неуправляемых животных, способных на самые дикие поступки. Такого рода ритмы создаются при участии психиатров, строятся таким образом, чтобы воздействовать на подкорку мозга, на психику человека. Это своего рода музыкальная наркомания, попав под влияние которой, человек уже ни о каких светлых идеалах думать не может, превращается в скота, его бесполезно призывать к революции, к построению коммунизма. Как видите, музыка тоже воюет».
Одновременно в массовое сознание, как предупреждал Сталин, вбрасываются и закрепляются вещи отнюдь не «музыкального» свойства, прямо касающиеся круга самых серьёзных общественных вопросов и дел. «Наших же людей изображали одетыми в лапти, в рубахах, подпоясанных верёвкой, и распивающих водку из самовара», — с гневом обрушивался он на современные ему образцы тех, как мы сегодня скажем, видеоматериалов, что в конце ХХ — начале ХХI столетия оказались превращены власть имущими почти что в суть всей культурообразующей продукции.
В общем, борьба за достоинство русских вновь становилась борьбой за достоинство страны в целом. Начало «холодной войны» делало такую государственную политику жизненно необходимой и неизбежной. Своё место в мире заново приходилось защищать. Но уже не оружием, а правдой истории. «И вдруг отсталая «лапотная» Россия, эти пещерные люди-недочеловеки, как нас изображала мировая буржуазия,— с сарказмом подчёркивал Сталин,— разгромила наголову две могущественные силы в мире — фашистскую Германию и империалистическую Японию, перед которыми в страхе трепетал весь мир». Казалось бы, речь шла о вещах, само собой разумеющихся: с триумфального для СССР окончания войны минул всего лишь год, и ничто не могло стереться в памяти. Но нет: напор антисоветчины, а значит, и русофобии как извне, так и изнутри не ослабевал. И приходилось напоминать более чем очевидное.
* * *
Военная эпопея и победа СССР во многом прояснили и разрешили русский вопрос. Во всяком случае, его политическую составляющую. Мало того, он обрёл огромное и реальное геополитическое значение. Русские заново вернули себе роль государствообразующего народа. Открытая русофобия получила серию серьёзнейших ударов. Русский вопрос превращался в знамя и базис глобального социалистического переустройства уже не России, а Европы и мира. Советская власть, утверждает Сталин, это «единственная в своём роде власть, вышедшая из русских народных масс и родная, близкая для них». И вместе с тем «Советская власть в России — это база, оплот, прибежище революционного движения всего мира».
Тем самым переосмысливалась сама концепция всемирного революционного процесса. «Величайшее международное значение «русского вопроса»,— как никогда актуально звучали сталинские слова,— является теперь фактом, с которым не могут уже не считаться враги коммунизма». Вопрос этот приобретал не только национальное, но и интернациональное, глобальное значение. И потому: «Два фронта образовались вокруг «русского вопроса»: фронт противников республики Советов и фронт её самоотверженных друзей».
Национальный вопрос, понимаемый в самом широком социальном смысле, выдвигается Сталиным как грозное оружие против капиталистического строя, а также против той волны, сминающей всё национальное, которую ныне мы называем глобализацией по-американски. Русский вопрос в сталинском понимании обретал цивилизационный характер — характер движущей силы коренного преобразования общества.
|